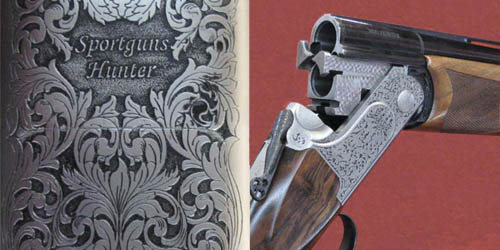Слово действительно не являлось преимущественной стихией мастера. В его диалогах встречаются лишние реплики (и это в фильмах, где буквально нет ни одного лишнего кадра). Что-то, вроде пресловутого «волюнтаризма», которым Балбес сгоряча ругнулся в доме уважаемого Джабраила, ушло вместе со временем. Даже зрительные гэги, построенные на вербальных отсылках, обмельчали в первую очередь. Скажем, краткое содержание «Бриллиантовой руки», слепой строкой пробегающее за пять минут до конца фильма, с одной стороны, конечно, отражает истинное отношение автора к «мысли изреченной», а с другой — подставляет его под чуждые законы. И наоборот. Там, где слово развенчано, превращено в гэг, вывернуто наизнанку, все в порядке. Обратите внимание — на культовые поговорки разошлась прежде всего г
Смех сквозь слово
Версии зеркальные, но оттого не менее противоречивые. Если на то пошло, «Пес Барбос» тоже был экранизацией — в его основу лег стихотворный фельетон украинца Степана Олейника. «Иван Васильевич…», например, вроде бы был обречен на провал, потому что совершенно бестактно перетащил коммунальную лексику 30-х в многоквартирно-новостроечные 70-е и, тем не менее, вошел в пятерку лучших созданий режиссера, а тщательное ретро «Не может быть!» — нет. Не вышло, не сработало. Почему, наконец (и это самое главное), работы Гайдая «постлитературного» периода как будто сделаны другим человеком — не более и не менее талантливым, а просто другим.
Версия вторая. Гайдая сгубило «самое читающее в мире общество». Он снимал гениальные кинокомедии, а ему втюхивали высокие образцы литературы и драматургии. Гайдай искренне любил зрителей, поэтому к советам прислушивался. Критика ему все охотно объясняла. Почему, например, «Кавказская пленница» это не выражение мысли через трюк, а просто балаган. Почему «Бриллиантовая рука» должна была бы стать пародией на второсортные детективы, а согрешила с бытовой комедией. Почему Гайдаю не даются сатира Ильфа и Петрова, социальный сарказм Булгакова или мещанский говорок Зощенко. Словом, перечитывая сейчас старые рецензии на гайдаевское кино, приходишь к выводу, что для современников идеальным созданием режиссера остался одночастевый «Пес Барбос», по отношению к которому уже «Самогонщики» выглядят кризисом жанра, потому что продолжаются целых 20 минут.
Кавказская пленница
Это «зачем бояться» ему потом не раз припоминали. И, в общем, за дело. Гайдаевские экранизации выстроились строго по-убывающей. От искрометных «Двенадцати стульев» и «Ивана Васильевича…» к удручающим «Инкогнито из Петербурга» и советско-финским «За спичками». Угодив в книжный переплет, великий клоун скис, сдал, сбил руку. Так, что даже оригинальные сценарии экранизировал потом без особой фантазии. С началом перестройки он, правда, воспрял. Страна поголовно хохотала над действительно очень смешной сценой, когда брошенный в Большом театре клич «агенты КГБ на выход» вымел из зала всех, вплоть до солиста и капельдинеров. Удержусь от слишком витиеватой параллели с определенной выше балетной природой ранних гайдаевских шедевров. Факт остается фактом — общественная либерализация совпала с творческим возрождением. Что было бы дальше, мы так и не узнаем. Гайдай умер.
По первой версии Гайдай слишком переоценил собственные силы. Трюкач и эксцентрик от Бога, он принялся за неприсущие ему повествовательные формы, начал экспериментировать с диалогом, характером, а потом и вовсе замахнулся на традиции «высокого смеха». В 1976 году, за «круглым столом» «Литературной газеты» обычно не склонный к теоретизированию режиссер высказался по поводу литературной классики как о своем «надежном резерве». И добавил почти как незабвенный товарищ Саахов: «Бояться не надо! Зачем бояться?».
Это, впрочем, еще даже не условия задачи, а всего лишь предисловие к ним. Условия же таковы, что, хотя покойный Леонид Иович Гайдай давным-давно заслуживает большой и подробной монографии, едва ли в ближайшее время кто-нибудь решится подобную книгу написать. По той простой причине, что, будь книга сделана, она состояла бы из разбора двух гениальных коротышек, трех блестящих кинокомедий, двух отличных экранизаций и такого же числа полуудач, неудач и просто никаких фильмов.
В день выборов, перед угрозой массовой истерики, конечно, должно было играть «Лебединое озеро». Но заиграла «Операция Ы…». В день думского марафона, кстати, прошло «Белое солнце пустыни», но там и напряг был поменьше и результат внешне более предсказуем. Потому и сгодилась неформальная сказка для взрослых со всеми ее парафразами и ироничными подтекстами. Гайдай в этот ряд не вписывается. Будучи неотъемлемой частью советского фольклора, он не снимал фольклорное кино. По-английски folclore можно буквально перевести как «народная ученость» — и Рязанов, и Данелия, и Марк Захаров, и даже мультипликатор Котеночкин стали работать, надеясь на то, что народ уже кое-что о себе знает. В лучшие свои годы Гайдай на это никогда не надеялся и выигрывал.
Если бы это сравнение не существовало въяве, его стоило бы придумать. Классический балет — «император искусств», знаковая абстракция. Он — либо после всего, когда эстетическая плоть очищена до поставленного аттитюда. Либо — до всего, когда нездешняя гармония еще не разбавлена мутным потоком осознавшей себя души. Власть неспроста пыталась сделать балетную классику формой директивного фольклора. Красиво, пышно, музыка играет, плюс «впереди планеты всей», но по сути совершенно стерильно, безвредно. Никак. Полая для неэкспертов форма.
Честертон называл это эффектом почтальона (письмоносец столь императивная деталь ландшафта, что одетый под него убийца остается стопроцентным невидимкой). В разгар президентских выборов наше телевидение почти гениально этот эффект использовало — подсчет голосов на большинстве каналов перемежался новеллами из «Операции Ы…». Ни один из других по-настоящему народных режиссеров здесь был бы неуместен. Ни Рязанов, ни Данелия. Ни «Белое солнце пустыни», ни «Джентельмены удачи». Разве что «Ну, погоди», но такое название звучит слишком уж вызывающе по отношению к запрету на агитацию в день выборов. Гайдай и здесь попал в самую точку — его кино оказалось тем самым коллективным антидепрессантом без побочного эффекта, который советская власть когда-то пыталась выпарить из «Лебединого озера».
Иначе говоря, фокус Леонида Гайдая принадлежит к тому разряду объектов нашего культурного зрения, которые начинаешь всерьез замечать только после того, как они вдруг исчезнут. Представьте себе — вы никогда больше не увидите «Бриллиантовую руку» — волосы дыбом встанут.
Дубу, если помните, профессор врубил по ушам радиопомехой и выгнал. С Гайдаем так не получается. Сложность решения в том и состоит, что условий задачи мы толком не знаем. Хотя бы потому, что знаменитые и любимые гайдаевские фильмы смотрим с удовольствием и с любого места, но не видим. Вернее, видим, но не такими, какие они есть, а такими, каких их просто не может не быть, какими мы видали их десятки раз в одиночку, в компании, на экране и по телику, с кем-нибудь в обнимку или просто потому, что нельзя же, елки-палки, не включить ящик, если в нем крутят «Кавказскую пленницу».
В лице Леонида Гайдая советское кино, безусловно, вытянуло свой самый счастливый билет. К билету, однако, прилагалась задача. Совсем как у нерадивого изобретателя Дуба из «Операции Ы…»: «Билет номер такой-то и задача при нем…»
30 января 2008К юбилею мы решили выложить на сайт статью Сергея Добротворского «И задача при нем » Мы также отсылаем наших читателей к , написанных для Энциклопедии отечественного кино.И задача при нем…
Журнал «Сеанс» | И задача при нем…
















_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1._%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5.jpg)